Лилиана Маррэ: «Фокус SCAN FAIR уникален — это сбор всех художников и галерей из удаленных регионов от центра, практически полярных Москве и Санкт-Петербургу»
В Красноярске с 25 по 29 июня во второй раз пройдет Ярмарка современного искусства SCAN FAIR. Она интересна тем, что среди всех нестоличных ярмарок только здесь можно найти художников с Дальнего Востока, Сибири и Урала.
В этом году арт-директором ярмарки стала Лилиана Маррэ, арт-продюсер, куратор, в прошлом директор галерей pop/off/art (2018–2021), директор галереи Anna Nova (2021–2025). «Городские интонации» узнали у неё о её карьере, арт-рынке современного искусства и том, как работать как работать на сибирской территории.
Какой была ваша первая работа в искусстве?
На первом курсе магистратуры мы с подругой устроились смотрителями в музей современного искусства GARAGE. Так что начало моей карьеры началось с самой маленькой ступеньки. Не буду говорить об этом с какой-то сильной ностальгией, это была просто работа, но в этот период можно было читать книги, смотреть классное искусство, у меня появились первые связи (что максимально важно), и в конце-концов появилась первая строчка в резюме.
На первом курсе магистратуры мы с подругой устроились смотрителями в музей современного искусства GARAGE. Так что начало моей карьеры началось с самой маленькой ступеньки. Не буду говорить об этом с какой-то сильной ностальгией, это была просто работа, но в этот период можно было читать книги, смотреть классное искусство, у меня появились первые связи (что максимально важно), и в конце-концов появилась первая строчка в резюме.
Вы учились на искусствоведа/историка искусства сначала в СПбГУ, а потом в МГУ. Как приобретали навыки арт-менеджера?
В каком-то интервью 8-10 лет назад я говорила, что это большая печаль, что в России не существует курсов по арт-менеджменту, потому что традиционное образование не дает тебе необходимых полевых знаний, которых требует 80% работы.
Сейчас они появились, но я сама не знаю, насколько они качественные. Я давала несколько лекций в рамках таких курсов, но обычно их участники — уже взрослые люди, которые приходят с идеей открыть свое дело в среде — разочаровываются — и куда-то исчезают. Вот что я могу сказать точно: нужны курсы, которые будут давать не просто знания в арт-менеджменте, но и базовое понимание корпоративной культуры, потому что мне очень повезло, что на одном из первых этапов я попала в Музей русского импрессионизма, где четко выстроены профессиональные и корпоративные связи, которые заложили базовые основы моего «миропонимания», как это должно работать.
Мне давали рамки и «этический кодекс» в работе, но при этом абсолютную свободу действий. Хочешь — если это достойная идея — значит будем пробовать.
За свою карьеру, я: помогала в работе инклюзивного отдела, работала смотрителем, специалистом выставочного отдела, руководителем инклюзивного отдела, руководителем мастерской-образовательной студии, ассистентом владельца аукционного дома, менеджером по спонсорству культурных проектов, наконец, директором двух больших галерей. Параллельно я курировала и продюсировала разные проекты вне своей основной работы.
Что это дает? Ты знаешь работу всех по всей «цепочке производства». От того, как делается диджитал и пиар, до фандрайзинга и создания доступной среды. Это очень удобно, когда знаешь, куда нужно двигать практически любой корабль и из чего он состоит. Можешь в одно лицо собрать и разобрать его на части.
В каком-то интервью 8-10 лет назад я говорила, что это большая печаль, что в России не существует курсов по арт-менеджменту, потому что традиционное образование не дает тебе необходимых полевых знаний, которых требует 80% работы.
Сейчас они появились, но я сама не знаю, насколько они качественные. Я давала несколько лекций в рамках таких курсов, но обычно их участники — уже взрослые люди, которые приходят с идеей открыть свое дело в среде — разочаровываются — и куда-то исчезают. Вот что я могу сказать точно: нужны курсы, которые будут давать не просто знания в арт-менеджменте, но и базовое понимание корпоративной культуры, потому что мне очень повезло, что на одном из первых этапов я попала в Музей русского импрессионизма, где четко выстроены профессиональные и корпоративные связи, которые заложили базовые основы моего «миропонимания», как это должно работать.
Мне давали рамки и «этический кодекс» в работе, но при этом абсолютную свободу действий. Хочешь — если это достойная идея — значит будем пробовать.
За свою карьеру, я: помогала в работе инклюзивного отдела, работала смотрителем, специалистом выставочного отдела, руководителем инклюзивного отдела, руководителем мастерской-образовательной студии, ассистентом владельца аукционного дома, менеджером по спонсорству культурных проектов, наконец, директором двух больших галерей. Параллельно я курировала и продюсировала разные проекты вне своей основной работы.
Что это дает? Ты знаешь работу всех по всей «цепочке производства». От того, как делается диджитал и пиар, до фандрайзинга и создания доступной среды. Это очень удобно, когда знаешь, куда нужно двигать практически любой корабль и из чего он состоит. Можешь в одно лицо собрать и разобрать его на части.
Почему решили уйти в практику?
У меня не было амбиций идти в чисто научную среду, может это было интуитивно, но я думаю, там для меня не было бы достаточного количества динамики и адреналина. Мне нравится обучение и исследование, я дико кайфовала, когда я писала свой диплом в бакалавриате «Искусство Энди Уорхола в контексте идеологии и светской религиозности». Даже по теме можно понять, что мне интересно смежное с классическим искусствознанием дело. Образование в истории искусства / искусствоведении дает мне огромное преимущество в моей области, оно безусловно повышает мой уровень экспертности, и дает делать мою работу профессионально и качественно. Но я человек, который работает в поле, чтобы мой мозг работал как машина, постоянно обучаясь новым навыкам.
У меня не было амбиций идти в чисто научную среду, может это было интуитивно, но я думаю, там для меня не было бы достаточного количества динамики и адреналина. Мне нравится обучение и исследование, я дико кайфовала, когда я писала свой диплом в бакалавриате «Искусство Энди Уорхола в контексте идеологии и светской религиозности». Даже по теме можно понять, что мне интересно смежное с классическим искусствознанием дело. Образование в истории искусства / искусствоведении дает мне огромное преимущество в моей области, оно безусловно повышает мой уровень экспертности, и дает делать мою работу профессионально и качественно. Но я человек, который работает в поле, чтобы мой мозг работал как машина, постоянно обучаясь новым навыкам.
Как выстраивался ваш путь: интуитивно или рационально?
И то, и другое. Конечно, в начале все идут просто туда, где берут. На начальном этапе выборы достаточно меркантильны и рациональны: ты идешь туда, где берут без опыта — стажером, смотрителем, ассистентом. После этого уже можно включать интуицию, вписываться в проект или нет. Поможет он твоей карьере или навредит. Сейчас, слава богу, у меня есть роскошь выбирать. И все проекты, в т. ч. работа с сибирской ярмаркой Scan Fair, пока складываются в нужную для меня линию: пробовать новое, не стоять на месте расти в ширину своих компетенций.
И то, и другое. Конечно, в начале все идут просто туда, где берут. На начальном этапе выборы достаточно меркантильны и рациональны: ты идешь туда, где берут без опыта — стажером, смотрителем, ассистентом. После этого уже можно включать интуицию, вписываться в проект или нет. Поможет он твоей карьере или навредит. Сейчас, слава богу, у меня есть роскошь выбирать. И все проекты, в т. ч. работа с сибирской ярмаркой Scan Fair, пока складываются в нужную для меня линию: пробовать новое, не стоять на месте расти в ширину своих компетенций.
Почему любая ярмарка современного искусства — это важное арт-событие для рынка?
Это важный паззл в экосистеме арт-рынка. Ярмарка — следующий этап развития, после того, как появились художники, галереи, коллекционеры. Она собирает всех игроков в одной точке: галереи могут показать своих художников, художники — быть замеченными, коллекционеры — найти что-то новое, интересное, значимое в одном месте. Всё происходит быстро, интенсивно, и в сжатые сроки. Это момент концентрации внимания и энергии.
Это важный паззл в экосистеме арт-рынка. Ярмарка — следующий этап развития, после того, как появились художники, галереи, коллекционеры. Она собирает всех игроков в одной точке: галереи могут показать своих художников, художники — быть замеченными, коллекционеры — найти что-то новое, интересное, значимое в одном месте. Всё происходит быстро, интенсивно, и в сжатые сроки. Это момент концентрации внимания и энергии.
Как вы относитесь к тому, что существует уже несколько больших региональных ярмарок? Какие региональные сложности добавляются?
Ну не так уж и много. Из крупных немосковсикх ярмарок в 2025 году прошла только ярмарка «Контур» в Нижнем Новгороде осталась. Ярмарка «1703» в Петербурге отменилась. При этом «Контур» — это всё-таки проект с фокусом на графику и фотографию, тогда как SCAN имеет совершенно другую DNA, другой слоган и корневую систему. Фокус SCAN уникален — это сбор всех художников и галерей из удаленных регионов от центра, практически полярных Москве и Санкт-Петербургу. В этом как раз и проявляются основные сложности: далеко и дорого. Россия — гигантская страна, любое передвижение в другой конец стоит времени и огромных денег. Поэтому для того, чтобы привезти коллекционера в другой конец России надо приложить в 10 раз больше усилий и финансов на привлечение. А коммьюнити локальных коллекционеров, конечно, не может закрыть все потребности ярмарки (читай — участников) по финансам. Ну и конечно, немаловажно, для участников из более удаленных частей — это тоже затраты на логистику, для них любой кост — значит надо продать еще больше, чтобы эти косты отбить.
Ну не так уж и много. Из крупных немосковсикх ярмарок в 2025 году прошла только ярмарка «Контур» в Нижнем Новгороде осталась. Ярмарка «1703» в Петербурге отменилась. При этом «Контур» — это всё-таки проект с фокусом на графику и фотографию, тогда как SCAN имеет совершенно другую DNA, другой слоган и корневую систему. Фокус SCAN уникален — это сбор всех художников и галерей из удаленных регионов от центра, практически полярных Москве и Санкт-Петербургу. В этом как раз и проявляются основные сложности: далеко и дорого. Россия — гигантская страна, любое передвижение в другой конец стоит времени и огромных денег. Поэтому для того, чтобы привезти коллекционера в другой конец России надо приложить в 10 раз больше усилий и финансов на привлечение. А коммьюнити локальных коллекционеров, конечно, не может закрыть все потребности ярмарки (читай — участников) по финансам. Ну и конечно, немаловажно, для участников из более удаленных частей — это тоже затраты на логистику, для них любой кост — значит надо продать еще больше, чтобы эти косты отбить.
Можете рассказать, что самое главное в подготовке ярмарки на примере Scan Fair?
Главное в подготовке ярмарки — время, пиар, прогрев коллекционеров. Здесь важно не надеяться на простых посетителей и не ждать, что коллекционеров привлекут сами участники-галереи. Потому что так можно этих участников потерять —
а это самый ценный ресурс и основной «источник питания» любой ярмарки.
Главное в подготовке ярмарки — время, пиар, прогрев коллекционеров. Здесь важно не надеяться на простых посетителей и не ждать, что коллекционеров привлекут сами участники-галереи. Потому что так можно этих участников потерять —
а это самый ценный ресурс и основной «источник питания» любой ярмарки.
Какими проектами, зарубежными или отечественными, вы вдохновлялись при создании ярмарки?
Я очень уважаю команду COSMOSCOW. Я была на огромном количестве зарубежных ярмарках и участвовала в многих из них с галереями, и могу сказать, что с точки зрения организации и профессионализма она стоит впереди многих. Мы сейчас не ориентируемся на ярмарки-гиганты типа Frieze, Armory Show, ArtBasel. До них, конечно, нужно ещё подрасти, но там и деньги другие.
Я очень уважаю команду COSMOSCOW. Я была на огромном количестве зарубежных ярмарках и участвовала в многих из них с галереями, и могу сказать, что с точки зрения организации и профессионализма она стоит впереди многих. Мы сейчас не ориентируемся на ярмарки-гиганты типа Frieze, Armory Show, ArtBasel. До них, конечно, нужно ещё подрасти, но там и деньги другие.
Как ярмарка работает с местным сообществом?
В этом году команда SCAN серьезно расширилась по сравнению с дебютным, прошлым годом. Ребята придумали масштабную программу SCAN CITY. Более 30 площадок Красноярска объединятся, чтобы представить работы 11 современных красноярских художников в формате pop-up экспозиций в пространствах ресторанов, баров и шоурумов.Также будет запущен спецпроект — аудиопроминад «Суриков. Затмение», созданный совместно с «Мобильным художественным театром», озвученный музыкантом Сергеем Сироткиным. В Музейном центре «Площадь Мира» с 26 июня по 31 августа в рамках параллельной программы ярмарки пройдет персональная выставка Элины Гусаровой «Пристанище», посвященная Красноярским Столбам. И это ещё не все события, подробнее можно следить на сайте ярмарки.
В этом году команда SCAN серьезно расширилась по сравнению с дебютным, прошлым годом. Ребята придумали масштабную программу SCAN CITY. Более 30 площадок Красноярска объединятся, чтобы представить работы 11 современных красноярских художников в формате pop-up экспозиций в пространствах ресторанов, баров и шоурумов.Также будет запущен спецпроект — аудиопроминад «Суриков. Затмение», созданный совместно с «Мобильным художественным театром», озвученный музыкантом Сергеем Сироткиным. В Музейном центре «Площадь Мира» с 26 июня по 31 августа в рамках параллельной программы ярмарки пройдет персональная выставка Элины Гусаровой «Пристанище», посвященная Красноярским Столбам. И это ещё не все события, подробнее можно следить на сайте ярмарки.
Могли бы сформулировать несколько своих правил хорошего арт-менеджера? Как вы растете вместе с ярмаркой?
Работать по совести и не лениться. Если это твой проект — ты в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы он был в самом лучшем виде. Не твой руководитель, не команда, а именно ты. Иногда сложно ломать глухие стены и костенелые структуры, об которые ты сам скорее сломаешь голову, чем они треснут. И надо чувствовать момент, когда надо отпускать и не терять себя и свои идеалы.
Мы в ярмарке работаем с прекрасной командой, пусть она и очень маленькая на такой объем работы и амбиции. Думаю, что к следующему выпуску, если все будет благополучно, она будет расширена и еще больше нарастит мышечной массы. Я видела, как она росла с первого выпуска (я была приглашенным экспертом в жюри), и вижу какой сейчас прогресс произошел, меня это несомненно радует.
Работать по совести и не лениться. Если это твой проект — ты в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы он был в самом лучшем виде. Не твой руководитель, не команда, а именно ты. Иногда сложно ломать глухие стены и костенелые структуры, об которые ты сам скорее сломаешь голову, чем они треснут. И надо чувствовать момент, когда надо отпускать и не терять себя и свои идеалы.
Мы в ярмарке работаем с прекрасной командой, пусть она и очень маленькая на такой объем работы и амбиции. Думаю, что к следующему выпуску, если все будет благополучно, она будет расширена и еще больше нарастит мышечной массы. Я видела, как она росла с первого выпуска (я была приглашенным экспертом в жюри), и вижу какой сейчас прогресс произошел, меня это несомненно радует.
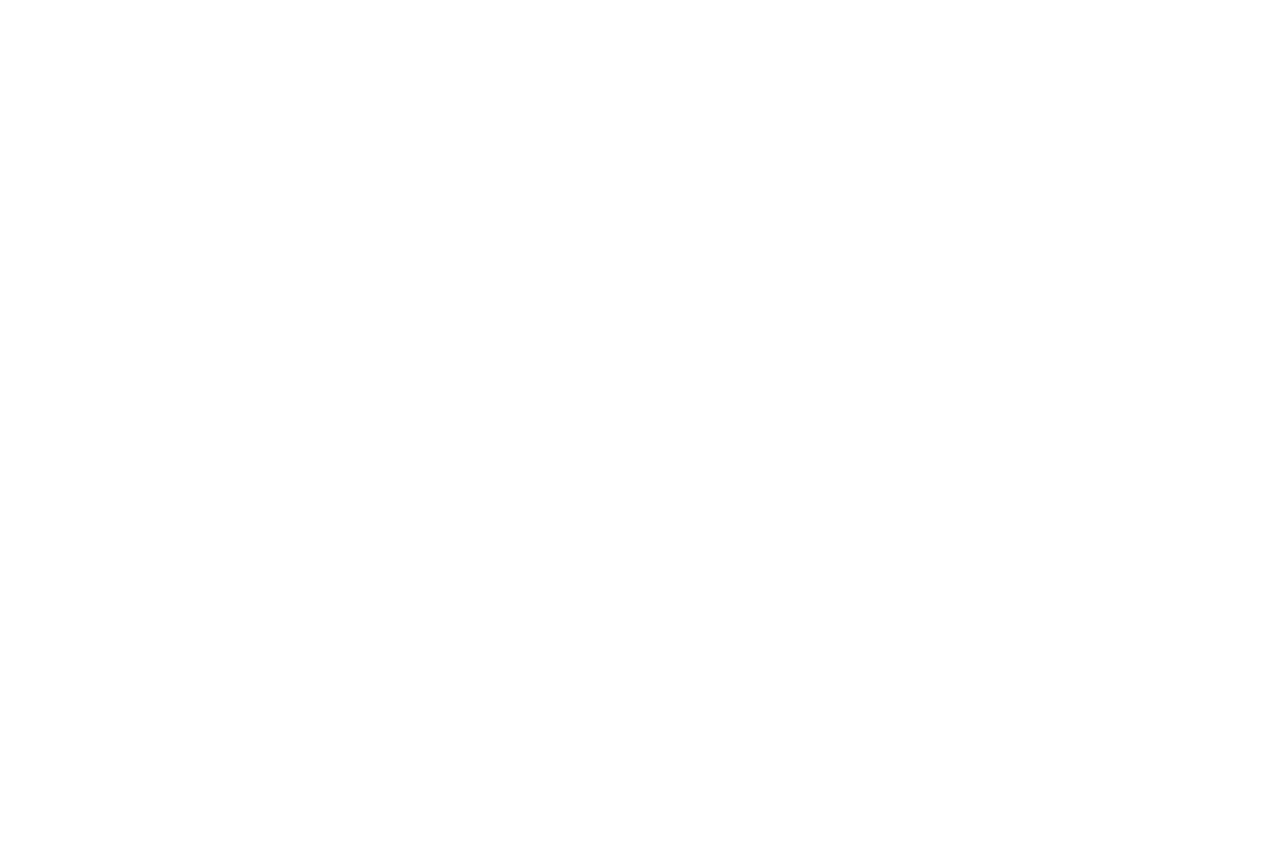
Что дала вам работа с галереями и чему вы научились?
Мне много дала работа с галереями, Сергеем Поповым, галерея pop/off/art, и Анной Бариновой, галерея ANNA NOVA — оба галериста представляют ведущие галереи современного искусства в России. Я им бесконечно благодарна за опыт и мне очень приятно, что они сами приедут на этот выпуск ярмарки, как гости.
Работа с ними дала мне: глубокое знания рынка, работы с коллекционерами, все необходимые навыки продюсирования карьеры художников, да даже знания структуры зарубежных ярмарок (с ними я объездила пол мира). Сложно сказать, чему они меня не научили. Когда я пришла к каждому из них, я думала, что уже все знаю, но открывался совершенно новый мир. Я смогла применить свои уже имеющиеся знания в структуре, менеджменте, вообще в целом в корпоративной культуре, продюсировании проектов, а они мне дали все, что связано со спецификой рынка и работы с художниками именно с точки зрения продаж и продвижения.
То, что делают галереи в России — это невероятный труд, часто совершенно неблагодарный, меценатский, это вовсе не брызги шампанского на открытиях. Это тяжелая эмоционально и физически работа и огромное финансовое бремя. Наша задача поддерживать галеристов и современное искусство. А для этого — стать его покупателем. То, что куплено — останется в истории.
Мне много дала работа с галереями, Сергеем Поповым, галерея pop/off/art, и Анной Бариновой, галерея ANNA NOVA — оба галериста представляют ведущие галереи современного искусства в России. Я им бесконечно благодарна за опыт и мне очень приятно, что они сами приедут на этот выпуск ярмарки, как гости.
Работа с ними дала мне: глубокое знания рынка, работы с коллекционерами, все необходимые навыки продюсирования карьеры художников, да даже знания структуры зарубежных ярмарок (с ними я объездила пол мира). Сложно сказать, чему они меня не научили. Когда я пришла к каждому из них, я думала, что уже все знаю, но открывался совершенно новый мир. Я смогла применить свои уже имеющиеся знания в структуре, менеджменте, вообще в целом в корпоративной культуре, продюсировании проектов, а они мне дали все, что связано со спецификой рынка и работы с художниками именно с точки зрения продаж и продвижения.
То, что делают галереи в России — это невероятный труд, часто совершенно неблагодарный, меценатский, это вовсе не брызги шампанского на открытиях. Это тяжелая эмоционально и физически работа и огромное финансовое бремя. Наша задача поддерживать галеристов и современное искусство. А для этого — стать его покупателем. То, что куплено — останется в истории.
Какие ценности важны для вас в любом проекте?
Корпоративная культура, профессионализм и ответственность каждого из участников в первую очередь перед самим собой в желании создать максимально качественный продукт. Я верю в бирюзовую систему, право на ошибку и я считаю, что при правильной мотивации, разумных рамках и приоритетах любой проект может выйти на невероятный уровень.
Корпоративная культура, профессионализм и ответственность каждого из участников в первую очередь перед самим собой в желании создать максимально качественный продукт. Я верю в бирюзовую систему, право на ошибку и я считаю, что при правильной мотивации, разумных рамках и приоритетах любой проект может выйти на невероятный уровень.
